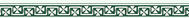На войне не было атеистов
Монахиня Адриана (Малышева) добровольно ушла на фронт, всю войну была разведчицей. Участвовала в боях под Москвой, в Курской и Сталинградской битвах. После победы еще четыре года работала в Германии с пленными. Затем окончила авиационный институт и попала в конструкторское бюро С.П. Королева. Сейчас монахиня Адриана живет на подворье Пюхтицкого монастыря, где мы встретились и побеседовали с ней.
— Матушка, когда знакомишься с вашей биографией, невольно возникает ощущение, что жизнь не просто бросала вас в сложные обстоятельства, но нередко отводила вам традиционно мужские роли, с которыми вы, тем не менее, всегда успешно справлялись.
— Вы очень верно это подметили. Я была вторым ребенком (сестра старше меня на три года), и мама очень хотела мальчика — даже имя ему придумала. Очевидно, это отразилось на моем характере.
Я родилась в 1921 году. В нашей семье все были верующими. Мой отец — из потомственных священников. Сам он был врачом. Мы жили в Феодосии. Шла Гражданская война, и отец из Крыма перевез семью в Курск, где находилась усадьба его родителей. Это было замечательное место. За 300 лет, в течение которых здесь священствовали мои предки, они превратили усадьбу в огромный ботанический сад. Какое-то время отец работал в местной больнице, но затем началась коллективизация, гонения на священников, и отец передал усадьбу персоналу больницы. В 1925 году мы переехали в Москву.
В то время в столице было еще много действующих церквей. Мне больше всего приглянулся Страстной девичий монастырь, который находился на Пушкинской площади. Я так часто бывала там и стала для насельниц почти как своя, даже ночевала в монастыре. Какие чудные воспоминания остались у меня о тех детских годах! В монастырском храме было распятие, вырезанное из цельного дерева. Я любила сидеть около него часами. Я буквально видела в Спасителе живого человека и часто со слезами говорила маме: «Ему же больно!» И с этой любовью к Христу я так и прожила всю жизнь, несмотря на все испытания, которые потом выпали на мою долю.
В 1938 году Страстной девичий монастырь, в здании которого с 1928 года размещался антирелигиозный музей, был снесен. На заасфальтированной площадке, появившейся на месте монастырских строений, трижды в год —
1 мая, 7 ноября и под Новый год — устраивались праздничные базары и народные гулянья. На открытой эстраде выступали артисты, на огромном экране демонстрировались кинофильмы. В 1950-е годы здесь разбили сквер, а за ним построили кинотеатр «Россия».
Через много лет я нашла то самое распятие, у которого так часто во время богослужений сидела в детские годы, в церкви Знамения Богородицы у Рижского вокзала.
Училась я хорошо, была очень активная, занималась спортом. После школы поступила в авиационный институт. К тому моменту я уже умела стрелять, прыгала с парашютом и окончила курсы медсестер. Поэтому неудивительно, что с началом войны я рвалась на фронт. Многие из нас тогда были уверены, что война закончится через три месяца, и боялись не успеть повоевать. Но меня отовсюду гнали, потому что, несмотря на спортивные успехи, внешне я была еще совсем ребенком.
Однако через некоторое время немцы подошли к Москве совсем близко. Москва в то время представляла унылое и жалкое зрелище. Город опустел. Света не было. Эвакуировался и мой институт. Настроение у людей было уже не такое боевое. Об этом раньше не принято было говорить, но многие тогда думали, что Москву сдадут немцам. И в этот критический момент на защиту столицы призвали всех. Вызвали в военкомат и меня. Я попала в дивизию, где из 11 тысяч человек не было ни одного, который бы подлежал мобилизации по призыву. Все были добровольцами. А по сути — смертниками. Эти люди не имели никаких послаблений или привилегий, просто каждый из нас не мог допустить, чтобы немцы гуляли по Москве.
Моя мама не знала, что я ухожу на фронт. Дело в том, что по вечерам я работала в институте Склифосовского, иногда даже ночевала там. В тот день, когда я собиралась на фронт, мама была уверена, что я иду помогать раненым. «Ты на дежурство?» — спросила она. Я кивнула в ответ. А нам только что выдали в магазине продукты по карточкам на месяц вперед. И мама напекла вкусные коржики. И вдруг она, как будто почувствовав что-то неладное, начала лихорадочно запихивать их мне в карманы, а потом тихо так говорит: «Возьми побольше, они тебе пригодятся». У меня комок подкатился к горлу. Эта сцена и сейчас у меня перед глазами.
— Как же вы попали в разведку?
— С направлением военкомата я пришла на место сбора, которое располагалось в одной из школ в районе метро «Аэропорт». Вообще-то, меня призвали как медсестру. И вдруг командир говорит: «А как насчет разведки?» Я сразу согласилась, и тут же выпалила, что очень хорошо знаю немецкий язык. Командир засмеялся и говорит: «Что, в школе учили?» А мы дома язык учили — мой отец хорошо знал немецкий и занимался с нами.
Меня привели в один из классов, где на матрацах уже сидели пять девушек — будущих разведчиц. «Ну вот, Наташа, это твоя семья», — сказал командир. И добавил: «Имей в виду, будет трудно, но у нас в разведке закон такой: товарища — не только раненого, но и мертвого, — на поругание врагу оставлять нельзя». Эти слова врезались мне в память на всю жизнь.
В декабре 1941 года нас отправили на передовую. В то время самые тяжелые бои шли на Волоколамском и Ленинградском направлениях, где оборону держала дивизия генерала Панфилова. Здесь уже было все серьезно, и полученные умения требовалось показывать не в учебной ситуации, а в жизни.
Мне хорошо запомнился один из первых выходов нашей разведгруппы. Машина довезла нас до кромки леса. Вместо маскхалатов нам выдали зеленые бушлаты, поэтому на белом снегу нас легко могли заметить. Начальник разведгруппы отобрал двоих, которые должны были перебраться через находившуюся за опушкой речку. На другой стороне проходила железная дорога, и нужно было узнать расположение немецких сил в этом районе. Мне кажется, я до сих пор ощущаю то волнение, которые мы все испытывали в первые минуты тревожного ожидания, когда в разведку ушли наши товарищи. Через какое-то время раздались выстрелы, а потом сквозь снежную метель мы разглядели фигуру ковыляющего человека. Это был один из посланных в разведку. Оказалось, что ребята наткнулись на немцев, и оба получили ранение. Тот, который был ранен не так сильно, добрался до нас, но не смог вытащить второго. А у меня сразу в сознании всплыли слова командира: «Не оставляй товарища...» Недолго думая я скинула с себя зеленый бушлат, натянула на голову белое белье, отдала винтовку и пошла по следам, которые оставил вернувшийся разведчик. Когда я добралась до раненого, он уже решил, что его бросили. Как он обрадовался, когда понял, что ситуация не безнадежна. Он был ранен в ногу, но руки работали, значит, он мог ползти. Я пристегнула свой ремень к его ремню, присыпала его снежком, и мы потихонечку, ползком добрались до своих. Меня подхватили разведчики, начали растирать... Это было моим боевым крещением. Может быть, впервые в жизни в тот момент мне пришлось преодолеть в себе чувство страха.
До мая 1942 года я служила в дивизионной разведке. Мы ходили в разведку группой. Наша задача была узнать расположение сил противника и передать эти сведения нашим. Поэтому мы старались не контактировать с немцами, и вступали в бой, только если натыкались на них. Однажды, возвращаясь домой, мы столкнулись с большой группой противника. Немцев было значительно больше, и они напали на нас внезапно. А у нас на картах уже были нанесены все сведения, которые требовалось срочно передавать в центр. И один из наших парней добровольно остался отстреливаться, давая нам возможность уйти от врага. Конечно, он погиб. Когда после окончания войны мне довелось работать с пленными немцами, то они говорили мне, что таких случаев самопожертвования в немецкой армии не было никогда. Самое грустное, что когда этого парня представили к награде, то оказалось, что его отец — известный военачальник — репрессирован, и по меркам того времени, сын не мог быть награжден.
В 1942 году меня направили на курсы в центр по обучению разведчиков. К тому времени от первого призыва разведчиков в живых уже почти никого не осталось, а в новом пополнении девушек-разведчиц не было. После учебы мне присвоили звание младшего лейтенанта и направили на Смоленское направление, под Сухиничи. Здесь располагалась 16-я армия, которой командовал Рокоссовский. Теперь каждый из нас работал индивидуально. Я в определенном месте переодевалась так, чтобы даже из своих никто не видел, и пробиралась туда, где располагались немцы. Оружия с собой не брала. На случай встречи с противником сочинялась «легенда».
В одной деревне жил мужчина, который собирал для нас сведения через партизан. Я должна была под видом племянницы побывать у него и узнать последние данные. Мне показали фотографию его дома и дали такой ориентир: если грабли у сарая будут перевернуты зубьями в мою сторону, то заходить в дом ни в коем случае нельзя — это сигнал опасности.
На выполнение операции отвели три дня. Я благополучно миновала нейтральную территорию, переночевала в лесу. Когда рассвело, я в бинокль разглядела, что грабли у сарая стоят нормально — можно идти. Я уже отряхнулась и сделала несколько шагов вперед. Оставалось буквально несколько метров до открытого места, где меня могли увидеть. И вдруг я вижу, как из дома торопливо вышла молодая женщина. Оглядываясь, она подбежала к сараю и перевернула грабли зубьями вверх. Я отпрянула и укрылась в лесу. Долго я размышляла, что делать, но потом все-таки решила не рисковать. В итоге никакого контакта не получилось. Задание я не выполнила, и всю обратную дорогу шла, как на плаху. Дело в том, что передо мной в эту деревню уже ходил разведчик и не вернулся. Тогда решили послать девушку — очень нужны были сведения. И вот иду я к своим с опущенной головой. И вдруг от палатки, где жили наши разведчики, бегут несколько человек, меня обнимают, целуют, плачут. Оказывается, женщина, перевернувшая грабли, была снохой того человека, который контактировал с партизанами. Ее муж был в армии, и немцы, узнав про это, стали заставлять их сотрудничать с ними, грозя расстрелом. Немцы уже знали, что кто-то придет на встречу, и ждали в засаде. Когда партизанам стало известно об этом, они послали девочку, чтобы предупредить меня об опасности, но мы с ней разминулись. Все думали, что я погибла, и уже не ожидали увидеть меня живой.
На следующий день меня пригласил лично Рокоссовский. «Оказывается, вы у нас умница, — говорит он мне, протягивая мне руки. — Ну, чем вас наградить?» А я очень хорошо относилась к Рокоссовскому. Жуков командовал всей операцией под Москвой, а Волоколамско-Ленинградское направление, где я начинала воевать, было за Рокоссовским. В армии его очень любили. «Разрешите служить с вами до конца войны», — неожиданно выпалила я. Он засмеялся и говорит: «Ну почему же только до конца войны, можно и дальше в армии служить... Завтра в Москву идет машина — хотите своих родных повидать?» На следующий день я уехала в Москву. Мало того, мне еще целый пакет с подарками выдали от командующего. Получилось, что ушла я на гибель, а тут меня так обласкали. Так до конца войны я и оставалась под командованием Рокоссовского. До Риги дошла.
— Для многих разведка связана не только со сбором сведений о противнике, но и с захватом «языка». Вам приходилось это делать?
— Это было на Северо-Западном фронте в апреле 1942 года. Командующий армией приказал взять «языка», но ничего не получалось. Гибли наши люди, но решить задачу никак не удавалось. Тогда взять «языка» поручили Ивану Тютюнову, который был очень хорошим профессионалом. Он попросил на подготовку операции две недели. За это время наблюдатели изучили весь распорядок дня немцев. Мы знали о них все, а ведь немцы очень педантичны, во всем любят точность. Была сформирована группа захвата. Моя задача состояла из двух частей. Если пленный немец будет ранен, следовало немедленно допросить его. А в случае погони я должна была занять определенное место и отстреливаться. Непосредственно перед операцией была проведена так называемая артиллерийская обработка, чтобы отвлечь внимание противника, и Тютюнов с двумя разведчиками пополз на немецкую территорию. Через какое-то время мы услышали взрыв, крики на русском и немецком языках. Затем видим, как наши разведчики волокут «языка». Немец был очень напуган, сильно дрожал, лицо было перепачкано грязным снегом. Честно говоря, мне его стало жалко. В этот момент кто-то, заметив мое состояние, подошел и шепнул мне: «Ты что, его пожалела?» А я отвечаю: «А мне Николай Михайлович (это тот командир, который взял меня в разведку) сказал, что пленный — не враг». И у меня всю войну так было. Пока немец стреляет в нас, убивает наших солдат — он мой противник, с которым нужно бороться. А если он беспомощный, в наших руках — это для меня живая душа.
— В последние годы много пишут о том, что замалчивалось в годы войны. Как, на ваш взгляд, все ли уже сказано ?
— Раньше многое о войне скрывали, а теперь часто говорят то, чего на самом деле и не было. Но есть и то, что до сих пор остается запретной темой. Например, необдуманные поступки командиров полков, которые говорили: давайте вот эту высоту возьмем и доложим начальству. Из-за такого честолюбия нередко гибло множество людей. Я это видела много раз. Но об этом сейчас ничего не говорят.
А в остальном... Хотя я и пережила физически очень много тяжелого, но светлого на войне было больше. Несмотря на все идеологические обработки, люди тогда — по своему поведению, по тому, как они относились к страшной военной работе, по самоотверженности, по отношению к своим товарищам — в душе были верующими. В те тяжелые военные годы они безотказно делали то, что требуют заповеди Божьи. Война пробудила и высветила в людях замечательные качества. Такая волна настоящей чистоты, патриотизма, самоотверженности проснулась в людских душах! Причем все это было не напоказ. Тогда в людях было то, что нужно христианину и чего не имеют сейчас многие даже ходящие в церковь.
— Есть и еще один очень интересный эпизод в вашей жизни — работа с известными авиаконструкторами Королевым и Исаевым. Расскажите об этом.
— Закончила я войну в звании капитана. Возвратилась на родину только в 1949 году — до этого пришлось поработать с пленными в Германии. И сразу вернулась в свой институт на третий курс. Это был факультет двигателей. В группе было 25 юношей и одна девушка. Я с головой окунулась в учебу: сидела ночами, перечитывала лекции, книги. После института получила направление в секретный подмосковный научно-исследовательский институт, которым руководили Сергей Павлович Королев и Алексей Михайлович Исаев. Я там проработала 11 лет. И Королев, и Исаев были очень демократичны, просты в общении, но мы все настолько уважали их, что ни у кого не возникало даже и мысли о панибратских отношениях. Исаев любил собирать инженеров, советоваться с ними, выслушивать разные точки зрения, спорить. В процессе таких «мозговых штурмов» высказывались интересные идеи, возникали неординарные решения. Мы все были увлечены работой. А когда Королева и Исаева не стало, обстановка изменилась. Все-таки это неверное мнение, что незаменимых людей нет. Уходит из жизни человек — и с ним заканчивается целая эпоха. По сей день с теплотой и нежностью я вспоминаю те годы, когда единой дружной командой мы работали у Королева.
— Как же проходил ваш путь от ракетостроения до Пюхтицкого монастыря?
— Я всегда оставалась верующим человеком и ни разу не участвовала в антирелигиозных мероприятиях. Однако все мы в те годы жили одинаково и в храмы ходили не часто. Ситуация резко изменилась в начале 80-х. Началось с того, что у нас на работе организовали экскурсию в Троице-Сергиеву лавру. Когда я подошла к мощам преподобного Сергия, то, забыв про экскурсию, так и простояла у них все время. А потом случилось еще одно знаменательное для меня событие. Я поддерживала связь с семьями своих однополчан. В Ленинграде жила семья Лукашенко. Глава семьи, с которым мы вместе воевали, к тому времени умер, и я переписывалась с его вдовой и сыном Сережей. Мы с ними были очень дружны, Сережа часто приезжал ко мне в гости. И вдруг переписка оборвалась. Я долго ждала, а потом написала им гневное письмо. И вдруг получаю ответ, в котором мать Сережи сообщает мне, что он по окончании университета ушел в семинарию и стал монахом. Его мать была в полной растерянности и боялась сообщить мне о таких переменах в жизни Сережи. А я ответила ей: «У тебя сын нашел главное для себя — смысл жизни». Как она обрадовалась, что я поддержала ее, стала ее единомышленницей. Вместе мы поехали в Ярославскую область, где Сережа получил приход. Я увидела совершенно другого человека — спокойные умные глаза, доброе лицо. Я даже оробела. Говорю: «Ой, Сережа...» А он мне отвечает: «Отец Сильвестр». Два с половиной часа мы ехали из Ярославля до той деревни, где он теперь жил. Мне казалось, что это какой-то медвежий угол. Стоит огромный храм, рядом избушка, колодец. Людей почти нет. В избушке две небольшие комнаты, все очень скромно, даже убого. А у меня в душе поднялась волна такого восторга, что я неожиданно для себя воскликнула: «Господи, дай мне такую же веру, как у него!» Бросить благоустроенную квартиру в Ленинграде, хорошую работу, очутиться в этой глухомани и быть таким умиротворенным, спокойным — это произвело на меня огромное впечатление. Я неделю там пожила, купила себе оловянный крест, и до сих пор ношу его. Это была судьбоносная встреча. Вернувшись в Москву, я, по совету отца Сильвестра, стала искать себе духовного отца. А моя мама в свое время была членом приходского совета в храме Воскресения Словущего, что на улице Неждановой. И когда мама умерла, ее отпевали именно здесь. И вот я пришла в мамину церковь и встретила там отца Владимира Ригина. Два часа мы разговаривали во дворе храма. Он ничего из меня не вытягивал, но вся моя жизнь в потоке слов, можно сказать, вылилась из меня наружу.
С одной из женщин, которая духовно окормлялась у отца Владимира, мы стали часто ездить по монастырям, были в Толгском, Пюхтицком монастырях, в Оптиной пустыни. А однажды она позвонила мне и попросила дать мой точный адрес. И так загадочно говорит мне: «Я уезжаю». Я думала, что она опять собралась в паломничество, но почему-то насторожилась. И вдруг до меня дошло, что она уезжает в монастырь насовсем. Выяснилось, что это Пюхтицы. Подруга стала там послушницей. Мы с ней переписывались, перезванивались. Через какое-то время она возвращается и говорит, что по благословению Патриарха в Москве организуют подворье Пюхтицкого монастыря. Моя знакомая стала помогать в организации подворья, и я стала всех знакомых приводить туда, чтобы оказать нужную помощь. По сути, я на подворье с первого дня его организации — с 1994 года.
Позже я приняла постриг и обрела монашество. Так сбылась моя мечта, к которой я стремилась все последние годы.
С диаконом Николаем Поповичем нам удалось побеседовать сразу после вручения ему юбилейной Патриаршей грамоты. Но отец Николай был так взволнован и растроган проявленным к нему вниманием и теми аплодисментами, которыми приветствовал его зал, что для обстоятельного разговора попросил корреспондента приехать в Кунцево, в храм Спаса Нерукотворного Образа, где отец Николай служит. Там и состоялась наша беседа с бывшим фронтовиком.
— Отец Николай, расскажите, как вы попали на фронт.
— Моего отца расстреляли в 1938 году — он был бывшим офицером царской армии. Осталось нас у мамы трое детей. К тому моменту, когда началась война, я закончил семь классов и работал на заводе, который выпускал авиационные моторы. У меня была бронь, но в 1943 году я все равно ушел на фронт. Сначала меня направили в пехотное сержантское училище. Там нас должны были шесть месяцев готовить, но тут началась операция «Багратион», и нас досрочно перебросили на фронт. Я воевал на 3-м Белорусском фронте, был командиром пулеметного расчета. Прошел с боями Белоруссию, Польшу.
Ранение я получил в октябре 1944 года в Восточной Пруссии. Перед боем пошел менять пулемет, в котором была серьезная поломка. Иду и вижу, что в траншее валяется новенькая каска. А мы носили пилотки, потому что каска тяжелая — попробуйте надеть на голову несколько кастрюль, ощущение будет похожее. Но в этот момент я почему-то решил подобрать каску и надел ее. Это меня и спасло. Ночью начался бой. На нас пошли немецкие танки, и я был ранен в голову. Ранение было очень тяжелое. Когда пожилой хирург оперировал меня в госпитале, я рассказал ему про каску. Он мне в ответ: «Кто-то за тебя крепко молился». А это мама постоянно молилась Николаю Угоднику.
— А на каком этапе жизни вы осознанно пришли к вере?
— После войны я долго учился: закончил десятилетку, юридический институт, потом получил еще и экономическое образование. Я тогда еще крепкий был, поэтому поехал работать в Якутию — сначала на угольном разрезе, потом в геологоразведке. Но все же фронтовое ранение постоянно давало о себе знать. И я вернулся в Москву, работал в ЦНИИ Госплана — начальником отдела, главным редактором, окончил высшие редакторские курсы. Был я членом партии. А так как в юридическом институте нам прекрасно читали лекции по научному коммунизму, все мы были глубоко верующие марксисты-ленинцы. Теперь, когда я размышляю над своей жизнью, то прихожу к мысли, что главное для человека — это потребность в вере во что-то высшее. Пусть даже у человека вера ошибочная, но если у него в душе есть потребность этой веры, понимание того, что его жизнь не может быть бесцельной, то Господь обязательно укажет ему верный путь. Так и у меня на каком-то этапе начались сложные раздумья о смысле жизни, и я понял, что коммунистическая идеология мертвая. Поэтому я в 1968 году, будучи начальником отдела, сдал свой партбилет и ушел церковным сторожем на Преображенку — в храм Святителя Николая и Успения Божией Матери. Там я научился читать на церковно-славянском языке. Потом перешел в храм Знамения Божией Матери, что у Рижского вокзала, и двадцать лет был там чтецом и алтарником. В этом храме я обвенчался со своей женой и встретил своего духовного наставника — протоиерея Александра Ветелева. Он был профессором, доктором богословия, преподавал в Московской духовной академии. Изумительный, блестяще образованный, очень любящий Церковь человек. Именно он привил мне настоящую любовь к Церкви, хотя, конечно, подлинное воцерковление — это дело всей жизни христианина.
— Отец Николай, много ли, на ваш взгляд, сейчас говорится неправды о войне?
— Я считаю, что на войне мы одержали прежде всего нравственную победу. Оружие — вещь необходимая, но это не главное. Основное — настрой, духовное состояние воина. Люди воевали за Отечество, и хотя сами они считали себя атеистами, но на самом деле были верующими людьми. Армию ведь в основном составляли выходцы из рабочих и крестьян. Эти люди выросли в семьях, где были верующие бабушки и дедушки, которые в свое время обучались в церковно-приходских школах. Конечно, революция и последующие события сильно потрясли Россию, но нравственные основы были заложены. Именно поэтому люди на войне вели себя истинно по-христиански.
Очень часто говорят, что войну выиграла Коммунистическая партия. Конечно, партия сыграла свою роль. Но русский солдат испокон веков воевал за Отечество. Это выстраданная, выкованная в тяжелых боях формула-девиз каждого православного воина. Я, например, не слышал, чтобы солдаты, поднимаясь в атаку, кричали «За Сталина!». Мы защищали прежде всего свою родину.
Сейчас много неправды говорят о военных годах. Недавно по телевидению демонстрировали фильм «Штрафбат» — вот он, на мой взгляд, достаточно реалистично отражает события Великой Отечественной.
С ветеранами беседовала Светлана Рябкова
|